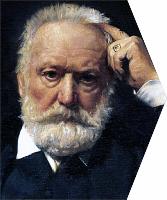
Сад, окружавший дом на улице Плюмэ, казалось, преобразился. Созданный сначала для того, чтобы скрывать любовные тайны, он теперь стал достойным охранять тайны целомудрия. В нем больше не было ни крытых аллей, ни лужаек для игры в шары, ни тоннелей, ни гротов; теперь в нем царил таинственный сумрак, узорчатым покровом своим окутывавший дом. Пафос снова превратился в Эдем. Чувствовалось, что как будто чье-то раскаяние очистило это убежище. Невидимая обладательница этого сада посвящала теперь свои цветы только душе. Этот кокетливый уголок, когда-то служивший греху, вернулся к служению девственности и целомудрию. Председатель палаты и садовник (один, по простоте душевной, вообразил себя преемником Ламуаньона*, а другой — вторым Ленотром*) обработали сад, подрезали, подчистили, убрали и нарядили для галантных похождений; природа же, снова захватив этот клочок земли в свою власть, поспешила наполнить его сумраком и по-своему разукрасила для любви.
Теперь в этом уединении очутилось и сердце, вполне готовое любить. Любви стоило только показаться. Она нашла бы здесь храм, созданный из зелени, трав, мха, птичьих вздохов, мягкой тени и колыхающихся ветвей, и душу, сотканную из кротости, веры, чистоты, надежды, порывов и грез.
Козетта вышла из монастыря почти ребенком; ей было немного более четырнадцати лет, то есть она находилась в самом неблагоприятном для наружности возрасте. Мы уже говорили, что за исключением глаз она была скорее некрасива, нежели хороша. Правда, неприятной черты у нее не было ни одной, зато она была угловата, робка, но в то же время смела и неуклюжа в движениях — словом, это был подросток.
Воспитание ее было окончено, так как ее учили Закону Божию и, главное, набожности, учили "истории", то есть тому, что подразумевается в монастырях под этим названием, учили понемногу географии, грамматике, музыке, ей дали понятие о французских королях, учили, как рисовать носы, но что касается всего остального, то она ровно ничего не знала: это представляло собой и особого рода прелесть, и большую опасность. Душа молодой девушки не должна оставаться во мраке неведения, для того чтобы впоследствии не появлялось в ней резких и ярких миражей, как это бывает у запертых в темной комнате. Такую душу, напротив, следует осторожно, постепенно приучать к свету и сначала показывать ей только его отблеск, чтобы не испугать ее его беспощадной яркостью. Нужно давать полусвет, нежный в самой своей поучительности, способный не только рассеивать детские страхи, но и оберегать от неожиданных нападений. Один материнский инстинкт — это чудное непосредственное чувство, в которое входят восоминания девушки и опытность женщины, — знает, как и из чего должен состоять этот полусвет. Инстинкт этот ничем не заменим. Чтобы воспитать душу девушки, монахини всего мира, вместе взятые, не могут сравниваться с одной матерью. У Козетты же не было матери; она имела их несколько, но они не могли заменить ей родную мать. Что же касается Жана Вальжана, то хотя в нем и было бесконечно много нежности и заботы, но ведь в сущности он был только старик, ничего не понимавший в этом деле. А между тем в деле воспитания, этом важном акте подготовки женщины к жизни, нужно много искусства, чтобы суметь успешно бороться с тем великим неведением, которое зовется невинностью. Ничто так не способствует развитию в молодой девушке страстности, как пребывание в монастыре. Монастырь обращает все помыслы именно к неведомому. Сердце, сосредоточенное на самом себе, разъедает себя в глубину, не будучи в состоянии развиться в ширину. Отсюда получаются всевозможного рода видения, предположения, догадки, зачатки романов, желания приключений, фантастические грезы, воздушные замки, воздвигаемые во внутреннем мраке мысли, здания темные и полные тайных извилин, где свивают себе гнезда страсти, лишь только им дана возможность проникнуть туда. Вообще монастырь — это гнет, который, чтобы восторжествовать над человеческой душой, должен давить всю жизнь.
Для покинувшей монастырь Козетты не могло быть убежища более привлекательного, но вместе с тем и более опасного, как дом на улице Плюмэ. Переселение в этот дом было для нее продолжением затворничества, соединенного с началом свободы. Это был для нее тот же замкнутый сад, но сад, в котором царила острая, пышная, душистая, опьяняющая, полная сладострастия природа. Здесь могли продолжать развиваться те же грезы, как в монастыре, но к ним могли примешиваться мелькавшие сквозь решетку фигуры проходивших молодых людей, потому что хотя и существовала ограда, но она выходила на улицу и была прозрачной.
Впрочем, повторяем, когда Козетта переехала в дом на улице Плюмэ, она была еще ребенком. Жан Вальжан передал запущенный сад в ее полное распоряжение, сказав, что она может делать в нем все, что хочет. Козетта была в восторге от этого. Она весело бегала по саду, обшарила там все кусты и перевернула все камни в поисках за "зверьками", играла там, как настоящее дитя, пока еще не наступила пора любовных грез. Она любила этот сад пока еще за копошившийся у нее под ногами мир насекомых, в ожидании того, когда полюбит его ради звезд, ярко сиявших по ночам над ее головой сквозь сень зеленых ветвей.
Притом она любила своего отца, то есть Жана Вальжана, любила его всей душой, с наивной детской страстностью, делавшей для нее общество добродушного старика желанным и приятным. Читатели помнят, что Мадлен много читал. Жан Вальжан продолжал чтение и достиг того, что умел быть интересным рассказчиком; в этом скромном человеке таилось много ума и прекрасных способностей, которые он старался сам развить в тиши. В его характере оставалось ровно настолько строгости, чтобы обуздывать его излишнюю доброту. Это был человек твердого ума, но мягкого сердца. Во время своих прогулок вдвоем с Козеттой по Люксембургскому саду он подробно толковал ей обо всем, что знал из книг и из личного горького опыта. Слушая старика, девочка в то же время с любопытством озиралась по сторонам.
Этот простой человек так же хорошо удовлетворял ее умственным запросам, как запущенный сад — ее чувству. Набегавшись до устали за бабочками, она, вся запыхавшись, прибегала к старику и кричала: "Ах, как я устала!" — и он нежно целовал ее в лоб.
Козетта положительно обожала старика и следовала за ним как тень. Где был Жан Вальжан, там было всего приятнее и для нее. Так как Жан Вальжан не жил ни в павильоне, ни в саду, то она чувствовала себя лучше на заднем вымощенном дворе, чем в полном цветов саду, и в маленьком домике с убогой мебелью, чем в большой гостиной, покрытой коврами и уставленной удобной мягкой мебелью. Жану Вальжану с улыбкой счастья, вызываемого тем, что его так часто тревожили, то и дело приходилось говорить:
— Да ступай же к себе, Козетта! Позволь мне немножко побыть одному.
Она каждый день журила его с истинно детской нежностью:
— Отец, что это у тебя как холодно? Почему ты не постелешь на полу ковра и никогда не топишь?
— Потому, милая девочка, — отвечал он, — что есть много людей, несравненно более меня достойных, у которых над головой нет даже крова.
— Почему же тогда у меня так тепло и есть все, что нужно?
— Потому, что ты женщина и ребенок.
— Вот еще! Значит, мужчины обязательно должны мерзнуть и жить дурно?
— Некоторые — да.
А то, бывало, она скажет ему:
— Отец, почему ты ешь такой гадкий хлеб?
— Потому что так нужно, дочка.
— Ну, раз ты его ешь, значит, и я буду есть.
После этого Жан Вальжан тоже принимался есть белый хлеб, чтобы Козетта не была вынуждена есть черный.
Козетта очень смутно помнила свое детство. Утром и вечером она молилась за свою мать, хотя и не знала ее. Супруги Тенардье представлялись в ее воспоминании двумя страшными призраками, точно виденными ею когда-то во сне. Девочка помнила, что раз ночью она ходила за водою в лес. Ей казалось, что это было очень далеко от Парижа и что ее жизнь началась в какой-то бездне, из которой она была извлечена Жаном Вальжаном. Вообще ее детство представлялось ей временем, когда вокруг нее не было других живых существ, кроме сороконожек, пауков и змей. Размышляя вечером перед сном о себе и о своей жизни и не сознавая вполне ясно, дочь ли она Жана Вальжана и отец ли он ей, девочка воображала себе, что в этого доброго человека вселилась душа ее матери, не пожелавшей покинуть свою дочь.
Иногда, когда старик сидел, она прижималась своей свежей щекой к его седым волосам и молча орошала их слезами, думая про себя: "Почем знать, может быть, этот человек действительно моя мать?" Как это ни покажется странным, но в качестве монастырской воспитанницы Козетта не имела ни малейшего понятия о материнстве и в конце концов начала воображать, что она появилась на свет помимо матери, тем более что она не знала даже ее имени. Всякий раз, как она спрашивала об этом Жана Вальжана, он отделывался молчанием. Когда же она приставала, он только улыбался. Однажды она стала очень упорно приставать к нему, тогда его улыбка превратилась в слезу.
Молчание Жана Вальжана покрывало мраком Фантину. Почему он молчал: из осторожности, уважения или из боязни поверить это имя случайности другой памяти, кроме своей собственной? Пока Козетта была совсем маленькой, Жан Вальжан охотно говорил ей о матери, когда же она начала превращаться в молодую девушку, это сделалось для него невозможным. Ему казалось, что он не имеет права более делать этого. Кого он тут оберегал: Козетту или Фантину? Он испытывал какой-то религиозный ужас при мысли, что эта тень может остаться в сердце Козетты и что покойница станет как бы участницей в их жизни. И чем священнее становилась для него эта тень, тем больший страх он ощущал. Когда он думал о Фантине, ему казалось, что его все более и более сковывает обязанность молчать о ней. Иногда ему мерещился в потемках прижатый к устам палец. Не охраняло ли Фантину в ее могиле то целомудрие, которое было в ней при жизни и, насильственно вынужденное покинуть ее, теперь, скорбное и негодующее, вернулось к ее гробу, чтобы бодрствовать над ее покоем? И не подчинялся ли Жан Вальжан бессознательно влиянию этого целомудрия? Веруя в смерть, мы готовы допустить это таинственное толкование. Отсюда и проистекала невозможность произнести имя Фантины даже перед Козеттой.
Как-то раз девушка сказала ему:
— Отец, я нынче ночью видела во сне свою мать. У нее были большие крылья. Должно быть, при жизни она была близка к святости.
— Да, своим мученичеством, — ответил старик.
В общем Жан Вальжан был счастлив. Выходя с ним на прогулку, Козетта, гордая и довольная, радостно опиралась на его руку. При выражении такой искренней нежности, обращенной исключительно к нему, Жан Вальжан испытывал глубокое наслаждение. Старик весь трепетал от переполнявшей его сердце радости, он уверял себя, что так будет продолжаться всю жизнь, ему казалось, что он слишком мало страдал, для того чтобы заслужить такое громадное счастье, и в глубине души восторженно благодарил Бога, допустившего по отношению к нему, отверженному, любовь такого невинного существа.
© «Онлайн-Читать.РФ», 2017-2024
Обратная связь